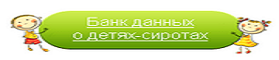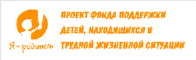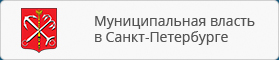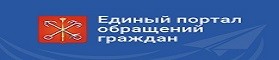Дети блокадного Ленинграда

27 января наш город-герой, а вместе с ним и вся страна, отмечают День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Накануне торжественных мероприятий мы побеседовали с жителями нашего округа - детьми блокады. Своими бесценными воспоминаниями поделились В.И. Соколов, В.А. Куприянова и А.Р. Гольдштейн.
Вячеслав Ильич Соколов:
– Когда началась война, мне было около 4-х лет. Мы с семьей – мамой, сестрой и отцом – жили на Лиговском, 109, где и провели всю блокаду. Все мои воспоминания об этом времени в основном ограничены нашей квартирой. Она была трехкомнатной и, конечно, коммунальной. На три комнаты – одна печка, и топить ее было нечем. Протапливали чем могли. Дрова появились только в 46-м году. Нам еще повезло, что снизу и сверху у нас были соседи, поэтому наша квартира не так промерзала. Света не было, единственным освещением были свечи. Есть было нечего. Я помню только дуранду (так называли спрессованные бруски отходов, жмых, оставшийся от производства муки – прим. ред.). Помню, как грыз эти плитки дуранды, но бывали они у нас редко. Маме иногда выдавали их на первом этаже в жилконторе.
Отсутствие света, тепла, воды, голод были не единственными проблемами. Мы страдали ещё от крыс, которые представляли серьезную опасность, так как иногда нападали на людей. Когда мама уходила из дома, то оставляла меня на высокой железной кровати и накладывала на нее много разной обуви, чтобы я мог кидать ее в крыс.
В блокаду в нашем доме я встречал только женщин, все мужчины воевали. Но мой папа был с нами, так как на фронт его не призвали: он в Финскую войну (1939-40 гг.) чуть не потерял ноги и остался инвалидом на всю жизнь. Папа рассказывал, что с отрядом бойцов держал оборону на озере, и так как был приказ не отступать, он и его товарищи пролежали в ледяной воде три дня. Помощь пришла, но у всех было обморожение и, когда их доставили в госпиталь, ноги всем ампутировали. А папа отказался, сказал, что готов умереть от гангрены. Так он сохранил ноги. И хотя всю жизнь ходил с большим трудом и несколько лет на костылях, но все-таки на своих ногах. И, конечно, он работал и во время войны, и после ее окончания.
В год окончания войны в городе было очень много инвалидов. Помню, когда я в первый раз я увидел, как по Лиговке едут безногие мужчины в военной форме с орденами и медалями, я разрыдался. Они катились на «барахолку» (стихийный рынок – прим. ред.), чтобы обменять трофейные ножи, портсигары и другие вещи на еду. Это было страшное зрелище.
Еще хорошо помню, что на Лиговке на столбах повсюду были развешены черные квадратные репродукторы, из которых доносился голос Левитана. (Юрий Борисович Левитан – легендарный диктор Всесоюзного радио, ставший «голосом» Советского Информбюро, объявивший советскому народу 22 июня о начале войны с фашистской Германией. Все годы войны он читал сводки с фронта и именно он объявил о капитуляции Германии 9 мая 1945 года и Победе – прим. ред.). Голос Левитана всегда меня поражал. Этот человек очень сильно влиял на людей. Мы стояли на улице под репродуктором и слушали, ловили каждое его слово.
Дома у нас радиоприемника не было. Но зато он был у нашей соседки Варвары Ивановны. Правда «прожил» он не долго. Мы с сестренкой разобрали его, так как искали человечков, которые там говорят. Варвара Ивановна на нас не рассердилась. Она была замечательной доброй женщиной и очень любила детей. Она воспитывала приемного сына и работала в детском саду. Я с большим теплом ее вспоминаю. Хочу сказать, что в те страшные годы человеческий фактор имел огромное значение. Все поддерживали друг друга всем, чем могли. Мы с соседями жили, как одна большая семья.
Валентина Александровна Куприянова:
– Когда началась война мне было 5 лет. Первое мое самое яркое воспоминание относится к маю 1941 года – это красные туфельки, которые мне подарили родители на Первомайский праздник. Я надела их и решила пройтись по улице. Папа дал мне денег, и послал купить конфет в ларьке на другой стороне улицы. Я шла и вдруг пошел снег! Стало скользко, идти было очень тяжело, и я думала только о том, чтобы не упасть. Но конфеты в виде шоколадных бутылочек я все же купила!
А потом папа ушел на фронт. Мама очень плакала. У меня было два брата: младшему тогда было три, старшему – семь лет. Помню, что мама оставляла нас втроем, мы сидели и играли в комнате на ковре, часто там и засыпали. Помню, как мы заклеивали окна крест-накрест полосками из бумаги. Старший брат резал, я подавала, а мама наклеивала. В комнате было очень холодно, и мама поставила буржуйку, а трубу вывели в окно.
Конечно, мы всегда хотели есть. Мама добывала еду как могла. Она, как многие тогда, ходила к Бадаевским складам после того, как их разбомбили собирать землю, смешанную с сахаром. Из еды помню дуранду, и один раз мама принесла шоколад! А наша соседка иногда угощала меня сухариками, они казались мне невероятно вкусными.
Мой старший брат с самого начала блокады говорил: «Вот Валька выживет, а я умру». Так и случилось. Мы все заболели расстройством желудка и оба мои брата умерли. Мы с мамой остались вдвоем. От папы изредка приходили письма, и мама получала за него как жена фронтовика какие-то очень маленькие деньги.
Мы с мамой ходили за водой на Обводный канал к проруби. Там было много людей. Стояла очередь. Мама начерпывала воду, потом мы ставили на ведерко и чайничек на санки и везли.
Напротив нашего дома была баня, и мы с мамой два раза туда ходили мыться. Тогда очень меня удивило, что мылись все вместе – и мужчины, и женщины.
Из нашего дома нас выселили в начале 42 года, так как город готовился к уличным боям. Во многих домах делались амбразуры для ДОТов (долговременная огневая точка – прим. ред.) и в нашем доме тоже. Поселили нас на Васильевском острове, на Голодае (историческое название части В.О., остров в дельте Невы, сегодня – территория МО Остров Декабристов – прим. ред). Помню помещение с большими окнами и множеством кроватей. Наверное, это было общежитие.
В июне 42го года мама решила эвакуироваться, так как очень боялась, что умрет, а я останусь одна. Поехали мы к дедушке в Галич, в Костромскую область, на папину родину. Переправлялись мы через Ладогу на пароходе. От поездки у меня сохранилось очень яркое воспоминание: на пристани, уже на другом берегу, нас кормили пшенной кашей! Эта желтая каша с маслом до сих пор стоит у меня перед глазами как самое вкусное, что я ела в своей жизни!
Нас, эвакуированных, называли «кувыренные», потому что не выговаривали сложное слово. У дедушки нам было не просто. Мачеха моего папы нас недолюбливала, считала лишними ртами. А мама очень болела и не ходила. Но постепенно ей стало лучше, она устроилась на работу и нам дали комнату.
А потом мы вообще переехали в Ярославскую область, где мама пошла работать на военный завод. В детский сад меня не взяли, сказали, что нет мест, поэтому я гуляла сама по себе. Тогда все родители работали целыми днями, а дети были очень самостоятельными.
В 43-м году к нам в Ярославскую область приехал папа. У него было тяжелое ранение в ногу. Он тоже устроился работать на завод. А в 44-м папа поехал в Ленинград и сумел добиться получения двух комнат на улице Марата, 36/38. В том же году мы с мамой вернулись в наш родной город, и я пошла в школу № 300 на Большой Московской улице. Закончила 7 классов, потом Фельдшерскую школу и Институт Мечникова. Всю жизнь я проработала врачом-терапевтом. Сначала в 46-ой поликлинике, затем 9 лет в ЛОМО (Ленинградское оптико-механическое объединение имени В. И. Ленина), а потом в ГУВД.
Анна Романовна Гольдштейн:
– Когда началась война, мне было три с половиной года. А началась она для нас в дороге: мы с мамой ехали в Ленинград из поселка Сиверский (Гатчинский р-он ЛО, был оккупирован 1 сентября 41 г. – прим. ред.). Ехали на подводе, запряженной лошадью, на тюках с вещами, и нас обстреляли немцы. Как потом рассказывала мама, она тогда возвращала в город детей, которые были в Сиверском в летнем оздоровительном детском саду. Она была фельдшером, работала районным санврачом, но на фронт её не призвали, потому что у нее был порок сердца.
Жили мы тогда с мамой и папой на улице Толмачева (с 1992 г. – Караванная). А когда началась война, к нам подселились бабушка и моя тетя, мамина старшая сестра с двумя детьми. Бабушка жила на 6-ой Советской, а тетя – где-то совсем рядом со Смольным. На семейном совете решили, что во время войны лучше жить всем вместе, а наша квартира на Толмачева – самая безопасная, так как удалена от стратегических объектов. Все понимали, что у Смольного будут бомбить. Вот так мы и стали жить все вместе. У бабушки было два сына, один из них – студент Института имени Лесгафта (в 1941 – Государственный ордена Ленина институт физической культуры имени П. Ф. Лесгафта, сегодня одноименный НГПУ – прим.ред.), который ушел на фронт добровольцем с первых дней войны. Он погиб под Сталинградом, когда ему было всего 22 года.
Помню, как мы ходили в бомбоубежище. Оно находилось в нашем же доме, но мы жили не в основном здании, а во флигеле. В бомбоубежище были очень длинные скамейки и очень много людей, там ходила девушка, видимо сандружинница, в белом халате с красным крестом. Бабушка тоже пришила в моей одежде кармашек с красным крестом и положила в него бинтик и кусочек ваты.
В бомбоубежище мы спускались с тётей, у которой было двое сыновей, один старше меня на три года, а второй – грудной ребенок. А мама с нами не ходила, она работала на Голодае. Как-то бабушка пришла домой и сказала, что очень долго стояла в очереди, ей удалось купить яичный порошок и она пойдет делать нам яичницу. И в это время раздалась воздушная тревога! А бабушка говорит: «Я так устала, давайте не пойдем в бомбоубежище». И мы в первый раз не пошли. Это спасло нам жизнь. Было прямое попадание бомбы в бомбоубежище. Весь дом рухнул. Две недели раздавались стоны из-под завалов, но никого не могли оттуда вытащить. Мне тогда было 4 года, а моему двоюродному брату – семь лет. Когда произошел взрыв, мы с ним играли со спичечным коробком, пустым, конечно. Коробок упал и покатился в сторону окна, я побежала за ним и присела, в этот момент мне в затылок прилетели осколки. Брату осколок прошел в затылок и вышел через лоб. Моя тетя в это время кормила малыша, и ей оторвало грудь, а младенца отбросило через всю комнату. Бабушка была на кухне, там упала внешняя стена дома, бабушку отбросило взрывной волной, и она упала между плитой и внутренней стеной. Плита была старинная, основательная, как печка, и оказалась надежной защитой: у бабушки в результате даже царапины не было.
Я, по всей видимости, сразу потеряла сознание, а когда пришла в себя, увидела, что стены нет, дверей нет, пол вздыблен. Я стала звать всех: маму, папу, бабушку, всех родственников по именам… Наверное потом я снова потеряла сознание. Следующее воспоминание – дворник, которого до войны я почему-то очень боялась, может быть из-за его большой рыжей бороды, несет меня на руках. Он принес меня в госпиталь во Дворце пионеров (Аничков дворец).
Когда мама пришла с работы, то увидела, что все оцеплено, пожарные еще гасят пожар. Она спросила, есть ли кто живой. И ей сказали, что рыжую девочку (а я тогда была рыжая) унесли в госпиталь. В госпитале мама нашла меня по моему крику. Я не помнила, как там оказалась, и как мне забинтовали голову, а проснулась от чьих-то рыданий и увидела, что лежу как будто в поезде на верхней полке. Это были нары. А плакал внизу муж моей тети Вениамин, он приехал с Ленинградского фронта, и мама сообщила ему о гибели жены и детей. Вениамин воевал на Невском пятачке и погиб при прорыве блокады в 44 году.
Потом мы узнали, что из нашего дома в живых остались только мы с бабушкой и две женщины – родные сестры, которые жили на первом этаже, но они обе ослепли.
Ранение и пережитый шок затмили мне все: и голод, и холод. Я страшно боялась воздушной тревоги. Каждую ночь я в ужасе просыпалась с криком: «Белая мышь летит!». Видимо так мое детское сознание обозначило раскаленный осколок, который влетел к нам в комнату.
Мама очень долго не хотела эвакуироваться, но врач ей сказал, что если она не вывезет меня из Ленинграда, то моя нервная система не выдержит. И в апреле 42-го года мама решилась. Успели мы на один из последних рейсов по Ладоге. Я хорошо помню из этой поездки страшную картину, которая мне снилась в кошмарах еще долгие годы: как машины, шедшие чуть впереди и сбоку от нас, одна за другой вместе с людьми уходили под воду. Лед был не крепкий, и повсюду зияли воронки от снарядов…Еще помню, что, когда мы перебрались, нас покормили. И я просила: «Еще хлеба!». Бабушка не разрешала, а мама сказала: «Пусть ребенок поест»…Из-за этого хлеба в дороге, когда мы уже ехали на поезде, у меня началась страшная дизентерия. Мы с мамой вышли из поезда на какой-то станции. Зашли в большое здание, видимо, вокзал, превращенный в госпиталь. Там повсюду стояли топчаны, на которых лежали раненые солдаты. К нам подошел врач, и мама дала ему градусник, чтобы показать, какая у меня температура. А он говорит, мол, отдайте мне градусник, а девочку я сейчас вылечу. Мама подарила ему градусник, и врач принес мне ложку антидизентерийного бактериофага (активный биологический препарат, разработанный учеными-биологами в блокадном Ленинграде для борьбы с бактериальными инфекциями – прим. ред.). Очень быстро я совершенно поправилась.
Мы проезжали мимо Сталинграда, там шли страшные бои. От грохота взрывов у меня снова началась истерика.
Эвакуировали нас на Северный Кавказ, в Кабардино-Балкарскую АССР. Мы провели там лето. Это был колхоз. Там была еда! Помню, как меня посадили на огромную тыкву, и я не могла достать ногами до земли. Мама устроилась на работу. Но наша мирная жизнь скоро закончилась. Знакомая женщина сказала маме, что Красная Армия отступает, и что скоро здесь будут немцы, поэтому нужно нанимать лодку и переправляться через Каспий. В результате оказались в Средней Азии. Я помню, как я поразилась, впервые увидев верблюда. Мы пошли на поезд, и нас повезли в Молотов (Пермь) . Но не в сам Молотов, а на станцию Ляды, где была река Чусовая. Зимой можно было добраться по льду, а летом только на лодке – это был лесозаготовительный участок, где работали в основном ссыльные и расконвоированные, но только женщины. Мужчин было всего двое.
Поселили нас в огромном бараке со множеством комнат. Мы жили там довольно неплохо. У нас был свой огород, мы собирали ягоды и грибы. Мама работала по специальности фельдшером. Бабушка шила и этим тоже зарабатывала. Она очень мудро поступила. Когда мы уезжали в эвакуацию, вещей почти не брали. Но швейную машинку бабушка положила в наши немногочисленные вещи. Это старинная швейная машинка – точная копия знаменитой «Зингер», сделанная в СССР. Машинка доехала с нами до Урала и сослужила там хорошую службу! Она у меня сохранилась до сих пор и до сих пор шьет!
Там я пошла в школу. Это была одна комната на первом этаже отдельно стоящего дома, в которой стояло четыре ряда парт и учились все вместе: с 1-го по4-й классы. Учитель у нас был тоже один. Однажды начался урок, и вдруг пришёл начальник участка, подошёл к учительнице и стал что-то возбужденно говорить. Оказалось, что по радио, а приемник был только у него и работал плохо, он услышал, что вроде бы Победа. А мама моя была там секретарем партогранизации. Как я понимаю, по-другому и не могло быть: в их партячейке всего три человека и было: начальник, учительница и мама – фельдшер. И вот мама поплыла на лодке в Ляды, узнавать, правда ли Победа. Она вернулась с подтверждением, что это правда!
Мы засобиралась в Ленинград! Маму просили остаться, сулили золотые горы, но мы хотели домой! Тем временем папа демобилизовался и организовал нам вызов. В 45-м году мы приехали в Ленинград. Вскоре нам далее комнату на Фонтанке в огромной 15-ти комнатной коммунальной квартире. Кухня одна на всех, две раковины и ванны не было. Квартира была в ужасном состоянии, так как в тот дом тоже попала бомба. Мы своими силами сделали ремонт.
Бабушке вручили медаль «За оборону Ленинграда», она во время блокады шила на своей машинке белье для солдат. А у папы был орден «Красной Звезды», он дошел до Германии и освобождал Освенцим.
Блокада долго меня не отпускала. Мы вернулись в Ленинград, у меня родилась сестренка, уже я в пятом-шестом классе училась, но все еще часто просыпалась с криком «Белая мышь летит!».
В эту комнату на Фонтанку я привела мужа и у нас родился ребенок. Так что на 24-х метрах мы жили всемером. И жили так очень долго – до 1965-го года.
Источник газета "Ваш Муниципальный" № 1(325) от 24.01.2020 г.